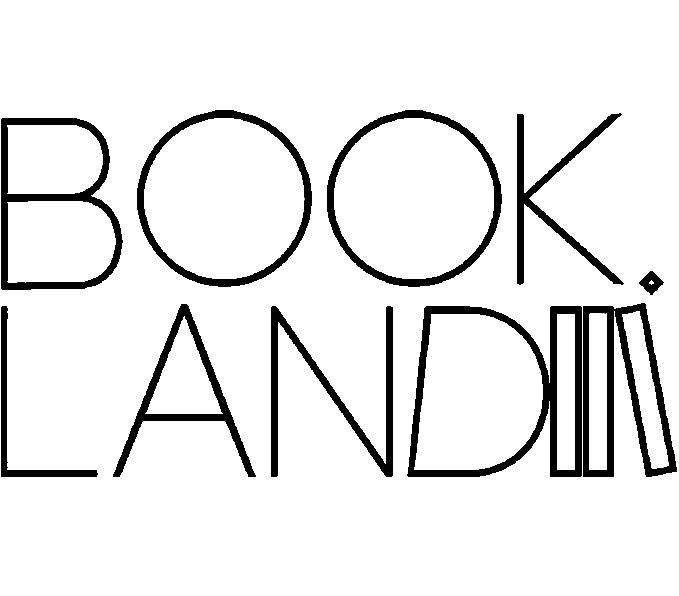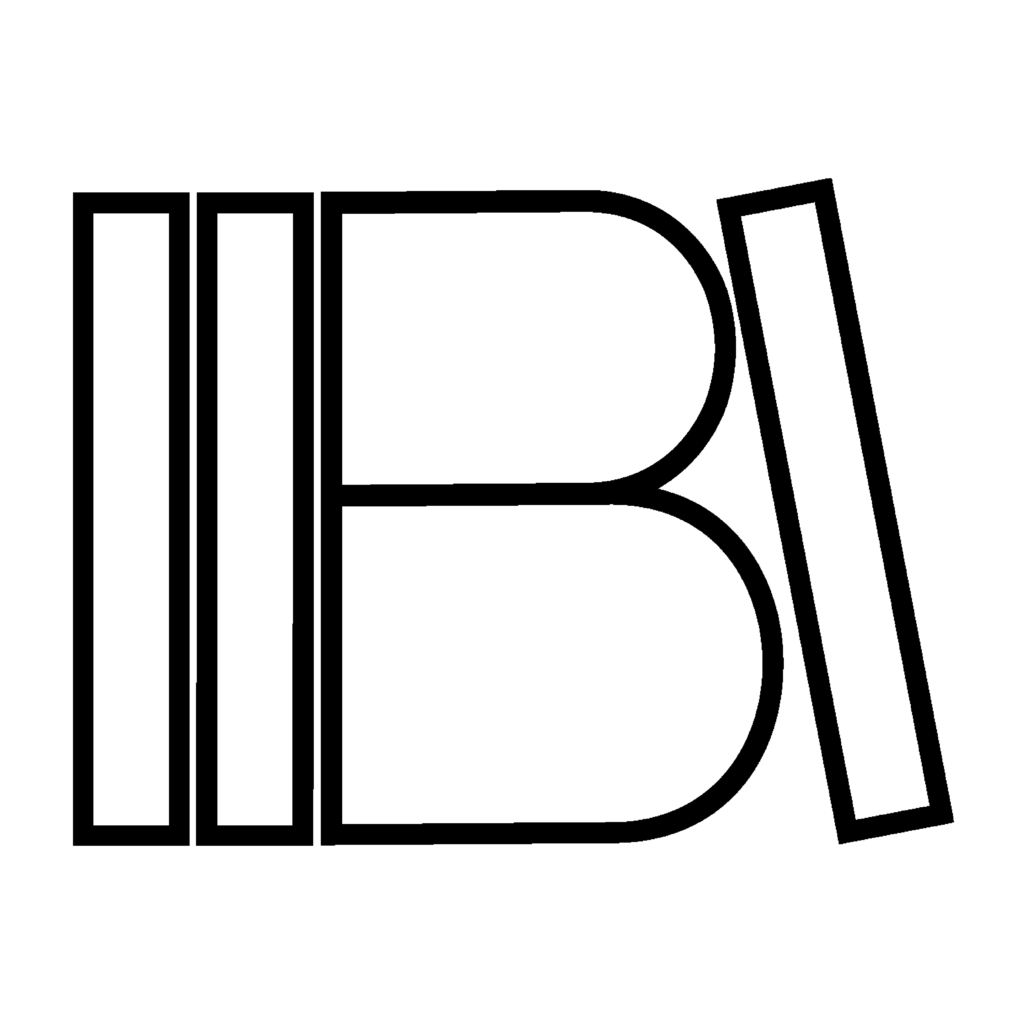Источник: https://ast.ru/news/pyatnichnye-chteniya-rasskaz-yelka-iz-sbornika-alekseya-provotorova-kostyanoy/
Другие посты от ast.ru
Колдовство всегда имеет свою цену. Благие у тебя цели или худые, даром не обойдется.Ищешь ли ты способ допросить мертвую изуверку, открыть загадочный холодный ларец, выяснить, кто делает таблетки из людей, призвать к ответу ведьму с собачьим языком? Придется рассчитаться за это, где бы ты ни был.В чаще на костях, где павшие в давней битве не могут улежать в земле, на болотах, где плотоядные цветы служат орудиями казни; за краем карты, где написано «сие — тварям», на пепелище алхимической фабрики, под расколотой, грозовой, плесневелой луной.Стоило оно того? Узнаешь, когда расплатишься. ЧИТАЙТЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА Алексея Провоторова «Костяной» Костяной Провоторов Алексей Александрович Снег шел какой‑то липкий и цепкий, будто с неба падали бесконечные мелкие пауки. Так и казалось, что случайная снежинка шевельнется да и поползет вверх. А то и не одна. Ветер тоскливо, совсем уже по‑зимнему выл в расселинах и между стволов. Сапоги были тяжелы, как сама жизнь. Твердые, несносимые, из кожи быка — теперь‑то быков уже не осталось, — и неподъемные. Ноги болели. А идти было еще далеко. Наверное, далеко. Знать бы точно. Ёлка поправила топор за поясом, стерла с лица подтаявший снег. Солнце тяжело вскарабкалось наверх и, перевалившись через пик, сползало в мягкие снеговые тучи. В разрывах виднелось ослепительно‑голубое небо, но тучи душили его, заминали, разрастались, словно тесто в небесной кадке. Ледяной ветер доносил из леса резкий свист. Ёлка не могла понять, скрип дерева это, крик птицы или еще чего. Корабль, говорили, пристал к старым верфям вчера. Ёлка спала — зимой она ложилась рано — и не видела, как зажигали огни. Ждали моряков скоро, к самому Рождеству, и нужно было встретить их честь по чести. Корабли нечасто приставали к их Берегу. Бабушка велела добыть елку да нарядить как положено, чтоб моряки не побрезговали в деревню зайти. Говорили, кто старые праздники не отмечает, к тем они не заглядывают. Только вот елок вокруг не было, совсем. Не росли здесь елки. Только Ёлка. Ее и отправили. В лес соваться не хотелось, он на вид был такой, будто больше не выпустит. Ёлка поежилась устало. Понятно, что идти ей, куда деваться, не бабушка же пойдет, да и никто из стариков. Наверное, они не смогли бы выйти и за околицу, по крайней мере Ёлка не помнила такого. Только смутно‑смутно, неярко, но тепло, как отсвет последнего луча на жухлой осенней листве, вспоминала иногда прошлые, хорошие дни, когда родители и соседи еще были здоровы, когда она играла с другими детьми, да и бабушка была другой. По крайней мере, не такой толстой?.. Ёлка пыталась вспомнить, почему то время в ее голове так отличается от этого, но зимняя дурноватая дремота не давала думать, не отпускала до конца даже в холодном лесу. Чесался затылок, то место, где шея переходит в голову. Ёлка задумчиво потерла его через жесткий холщовый капюшон. Когда это было — то призрачное, другое, светлое?.. Здесь, на Берегу, по эту сторону Синего моря, жизнь всегда была трудной. Их край обозначали на картах совсем иначе, но они, местные, потомки первых поселенцев, так и привыкли звать его Берегом, хотя больше никогда не отчаливали от него, разобрав истрепанные корабли на материал для строительства — кто домов, а кто хижин. Здешние деревья трудно было рубить, от кроваво‑ржавой смолы шел едкий соленый запах, пилы вязли, а доски приходилось сушить по два‑три долгих года на скудном солнце или на лютом морозе. Второй случался чаще. Ёлка вошла под сень серо‑зеленого, разлинованного рыжим леса, вспоминая, как бабушка рассказывала ей про дубы. За селом была целая дубовая роща, выращенная из желудей, что они привезли из‑за моря. Были осины, липы и липовый мед — Ёлка считала рассказы о нем сказками для детей,— были яблони. Вот в них Ёлка могла поверить. Когда‑то бабушка угощала ее старыми сморщенными коричневыми дольками с запахом горячего, яркого лета, которое она никогда не видела, но могла представить. Это сушеные яблоки, говорила бабушка. Мама улыбалась, глядя на Ёлку. Не лежала. Ёлка плохо помнила маму не лежащей, а бабушку — не суровой и ледяной. Но помнила. Если бы не помнила, может, ей бы легче жилось. «Леночка», — говорила мама. Это яркое и забытое воспоминание, горячее и нежное, так поразило ее, что она остановилась и замерла, сжав топор тонкими пальцами, синими от холода. Постояла да пошла дальше. * * *Мало‑помалу небо перестало быть видно, ветви наверху сплелись в ребристый полог, даже листопад тут не достигал земли, шапками оставаясь и разлагаясь на переплетениях ветвей. Листья протекут только к весне, когда окончательно сгниют, превратятся в слизь. Тогда они упадут на землю, и корни впитают их. А измочаленные невесомые жилки развеет весенний ветер, мокрый, острый и злой, как нож для мяса. Тут кое‑где росли и другие, привычные деревья, но старый лес задавил их, выгнал из себя, как чужаков, которые так и не прижились. Ёлка прошла хилый мертвый осинник, высмотрела полдюжины ярких желтых листиков, не больше. Деревца стояли голые, ломались и падали, стоило тронуть. Раньше в лесу водились хотя бы измельчавшие совы и съедобные грибы, но грибы выродились в какие‑то круглые жесткие пуговицы, вцеплявшиеся в корни дерев намертво, а сов уже несколько лет никто не видел. Последние привычные птицы, из тех, что прибыли сюда на кораблях вместе с кошками, на случай если понадобится истреблять каких‑нибудь местных грызунов, куда‑то пропали. Может, подумала Ёлка, сделались совсем маленькими. И спрятались под кору. Грызунов на Берегу так и не нашлось. Ёлка устала. Сапоги натерли ноги. Шагать стало трудно. Начались валуны — хороший знак. Елки растут где‑то у самых скал, за ручьем. Нужно идти туда, где камни становятся все больше, правильно? Лес молчал. Даже резкий свист стих, остались перестук капель да рваный скрежет сплетенных ветвей и стволов друг о друга. Традиции важны, говорила бабушка. Принеси елку, и я позволю тебе увидеть маму. А с пустыми руками лучше и не приходи. Может, подумала Ёлка внезапно, я и не возвращалась бы, да только куда идти? К верфям? Далеко. В другие деревни? Ёлка не имела представления, где они. Их старики не любили чужих людей, держались особо. Были ли у них когда‑нибудь гости?.. В том году, в этом?.. Наверное. Правда, вспомнить толком не получалось. Впереди блеснула вода. Значит, правильно, значит, ручей где‑то там. Как давно она видела мать?.. Ёлка задумалась. Привычная чуть болезненная давящая тяжесть в голове начала испаряться. Хрустнуло под ногой, и Ёлка увидела, что давно шагает не по валунам и веткам. Камень провалился под сапогом, она какое‑то время непонимающе смотрела на это, а потом сообразила. Голова. Костяное нутро человеческой головы, череп. Затянутые волнами зеленого мха, вокруг черного зеркала озерца лежали черепа, некоторые с проломленными затылками или лбами. Залитые зеленой стоячей водой, залипшие паутиной, затекшие старой листвяной гнилью, поросшие серыми трубочкми мха, они казались мохнатыми башками неведомых существ. Ёлка подумала, что вот сейчас они повернутся к ней как один, разлипнутся с влажным всхлипом в темноте скользкие белые глаза, и... что она будет делать? Кричать, пока не разорвется горло и она не умрет? Жуткий ледяной страх отогнал дрему. Ёлка хотела потрогать шею ниже затылка — там, где, как ей казалось, живет ее сонная тупая дремота, привычная тяжесть головы и куда теперь вонзился ужас, — и отчего‑то забоялась. Не стала. Впрочем, она же не кричала, когда... А когда что? Ёлка не могла вспомнить. Все дни были такими одинаковыми. Бабушка ведь знала, а отправила меня одну в лес, со злостью и страхом подумала она. Когда‑то бабушка была другой. Не такой огромной. Когда за бабушкой еще не тянулись черные нити. Сколько ей, Ёлке, лет? Сколько она не видела маму? Как давно старики говорят, что родители лежат, болеют? Ёлка помнит полумрак, прикосновение горячих сухих рук в те редкие свидания, которые позволяет бабушка... А сколько раз это случалось за последнее время? И как давно длится последнее время? У нее не нашлось ни одного ответа. — О‑о‑ох! — заплакала Ёлка, глядя на отражение леса в воде. Она очень, очень боялась увидеть движение и живо представляла себе все лишнее, что могла представить в черном гниющем лесу. Например, как с лесного свода за спиной опускается то, что сложило здесь все эти черепа. Как оно, с десятком членистых ног, матово‑черных, с белой пылью блеска, щитками мерзких клещей‑паразитов под суставами, с ворсистым раздутым брюхом и маленьким, кукольным тельцем с почти человеческими ручками, мягко встает на гнилые черепа — огрызки своих прошлых трапез. «Паутень» — написано в тех книжках с картинками. Эти книжки рисовались уже здесь — там, за Синим морем, никто не знал ни про каких паутеней, когда первые корабли направлялись сюда. Паутени иногда выходили на охоту, но сегодня Ёлка наткнулась на их логово сама. Она сделала глубокий вдох и бросилась бежать. * * *Ее крупно колотило. Но топор она не потеряла. Упала, вывалялась в слизи, поцарапала руки, локти, колени и лоб о черепа, соскользнула в ледяной илистый ручей, но не потеряла. Когда впереди послышались людские голоса, она затаилась и стояла в облипшей рубахе, стараясь не шевелиться. Куртку она скинула — та перестала гнуться от ила и холода, идти в ней стало невозможно. Поганенькие ее светлые волосы покрылись грязью, лицо тоже. Где уже эта проклятая ель? Мне худо, подумала Ёлка. Я должна вернуться в деревню. К бабушке, в дремоту, из которой я выныриваю, только чтобы заняться чем‑нибудь по хозяйству. Она же не прогонит меня, даже с пустыми руками. Когда‑то она давала мне сушеные яблоки. Иногда она пускает меня (в амбар?.. где вповалку лежат взрослые?) увидеться с мамой и папой. От бабушки пахнет сухой паутиной, мертвыми насекомыми на чердаке, затянувшейся раной, печью с хлебом, которую бросили холодной. Почему? Голоса впереди приближались. Ёлка зацепенела. Другие люди. Она сто лет не видела других людей. Что она им скажет? Что они ей сделают? Ёлка зажмурилась. На изнанке век двинулись картинки недавних воспоминаний. Бабушка провожает ее. Машет — иди. Грузная, тяжелая, она только что вышла из общинного дома, щурится на пасмурный, в голубых прорехах, дневной свет. Черная нить тянется за ней, под глазами такие мешки, что кажется, там прорезаются еще глаза. Может... Не может. — Девочка? Ты кто?И второй голос, почти хором: — Ты зачем здесь? — Ёлка, — ответила она на оба вопроса, смутно осознавая, что сейчас что‑то пойдет не так. Открыла глаза. — Ты откуда? — спросил высокий, в старой‑старой куртке с нашивками. За такую куртку, моряцкую, что не горит и не мокнет, давали когда‑то стадо коз. Папа хотел, да не выменял. — Из Девятки, — честно назвала свое село Ёлка. Они отступили на шаг, одинаково, как отражения друг друга, два взрослых мужика с тесаками у поясов. — О, девочка... — сказал высокий с такой искренней печалью и сожалением на лице, что у нее защемило сердце. Она вспомнила папу, амбар... Амбар?.. — Я никак не могу тебя отпустить. Ёлка тупо молчала, сжимая топор. Она просто хотела срубить дерево. Почему они ей мешают? Неужели им так нужно дерево? Нет, подумала она, это потому, что на тебе лежит тень твоей бабушки, огромной старухи, раздутой, как труп человека, умершего от яда, может, не умершего, может, не от яда, а может, не человека. Но что‑то с ней глубоко не так, черные нити тянутся за стариками из общинного дома, а детей больше не осталось, а взрослые... Лежат в амбаре. — Детей они могут с нитки снимать, ненадолго, — сказал высокий низкому вполголоса, пока они вынимали лезвия, заходя с боков. — Старики первыми меняются, мужики да бабы — медленнее, тяжко, а дети — медленно, да легко, если только сразу не померли. Она ж даже не знает, что с ней такое. Они болеют, сказала Ёлка себе. Мужики да бабы, папа и мама. Они выздоровеют. Решила бить топором, как сумеет. Если она принесет елку, может, будет праздник. Может, моряки зайдут в деревню; может, привезут лекарства? Почему‑то при слове о лекарствах Ёлка представила пламя. «Пламя лечит». Это правильнее, чем «время лечит». Время затхнулось, она попалась в кусок времени, как муха в паутину, как человек к паутени. — Ох, дитя, закрой глазки, — сказал высокий мужик. Но она не послушалась, глядя, как то, что шло за ней от логовища с черепами, тихо, бесшумно, в самую пору быстро спускается с лесного свода за спинами взрослых. Низкий не успел обернуться, высокий успел, но это ничего не решило. Прижимая голову к груди, чтобы съесть потом, паутень приблизила неясно знакомое лицо к Ёлке. Бесстрастная маска с четырьмя вмятинами глаз, откуда глядело нехорошее, маслянистое. Крестовидный разрез на белой лысой округлой башке уже закрылся, скрывая пробойное жало. Смутно понимая, что, скорее всего, ее не тронут, Ёлка не выдержала этого понимания и снова побежала. * * *Пошел дождь, потом снег. Она давно должна была упасть, замерзнуть, но не могла даже этого. Когда она вышла к камням, пенек был еще свежим. Ёлка прошла совсем немного по свезенному мху, прежде чем догнала мальчика. Он был еще более изможденным. — Тебя твоя бабушка послала? — чувствуя почти братскую схожесть, спросила Ёлка. Мальчик не ответил. Просто смотрел, сжав елку — совсем маленькую, зеленую, лапчатую, как на старых картинках, — худой грязной ручкой. Второй он держал тяжелый хозяйственный нож. Надо же, подумала Ёлка, у нее такая желтая смола. И она так хорошо пахнет. Наверное, как мед. Наверное, нужно отпустить его, подумала Ёлка. Может, ему тоже пообещали что‑то. Сушеных яблок. Липового меда. Увидеть маму. Но, если она вернется с пустыми руками, она больше не увидит свою. — Твоя бабушка тоже чудовище? Мальчик стоял. Он не собирался ни говорить, ни отдавать. * * *Когда Ёлка выбралась из кровавой лужи, вытирая лицо тыльной стороной рук и тихонько скуля, мальчик уже затих. Топор Ёлка оставила, она не могла унести и дерево, и орудие. Он больше не был ей нужен. Паутень не собиралась ее трогать. Никто не собирался, конечно. Бабушкину внучку в этом лесу пропустит каждый. Теперь, когда Ёлка увидела взрослую паутень, она понимала, что зреет в старушечьих мешках под глазами. На что делаются похожи пока еще родные черты. Бабушка посадит меня на черную нитку, и я забуду все это. Буду спать. Ждать редких встреч с мамой и папой. Думать, что так и надо. Слушать бабушку. Становиться такой же, как она.Она пошла прямиком через лес, не замечая своей кровавой боевой раскраски. Дождь кончился. * * *— Привет, народ! С праздником! — сказал первый из четырех моряков, махая рукой. У бедра висело тяжелое моряцкое оружие, огнестрел. Тетка, что шла за ним, держала ствол вдвое длиннее в руках. Небо, которое здесь прозывали Синим морем в противовес Серому морю — лесным глубоким болотам, — проглянуло сквозь тучи, как последний осмысленный взгляд, и начался снегопад. — Вижу, готовились. Елка... Надо же. Так приятно. Если б мы не видели, что вы люди, мы б к вам в село и не сунулись, хоть с бластерами, хоть без. — Привет, — сказала Ёлка, улыбаясь столбнячным оскалом. — Мы очень рады гостям. Бегите отсюда, мы личинки паутеней. Прежде чем тяжелая лапа бабушки, продавливая бывшую человеческую плоть, сжала ее голову, Ёлка увидела, как изменилось лицо моряка. — Аня, огонь! — успел крикнуть человек, а больше он ничего не успел, а Аня успела жутко завыть, поняв, и нажала на спуск, и горячая, как воспоминание о добрых временах, стрела пробила Ёлкино маленькое сердце.